Александр Острогорский
Архитектурные принципы в эпоху стыда
Современная архитектура находится в состоянии диссоциации, разрываясь между своим имиджем и скрытой травмой. Пока маркетинг навязывает язык эмоций и аттракциона, профессионалы прибегают к языку циничного прагматизма. Но оба языка — только маски, которые призваны скрыть болезненный раскол между гуманистическим мифом о профессии и тем, что архитекторам приходится делать.
Очень современно и невероятно уникально
«Необычный жилой комплекс с ярким фасадом», «яркая школа с необычным фасадом», «уникальный общественный центр с современным обликом», «современный квартал с уникальным архитектурным решением» — эти штампы часто встречаются в пресс-релизах, в лентах новостей и в подписях под рендерами. Но разве архитектура обязана всегда быть яркой и необычной»?
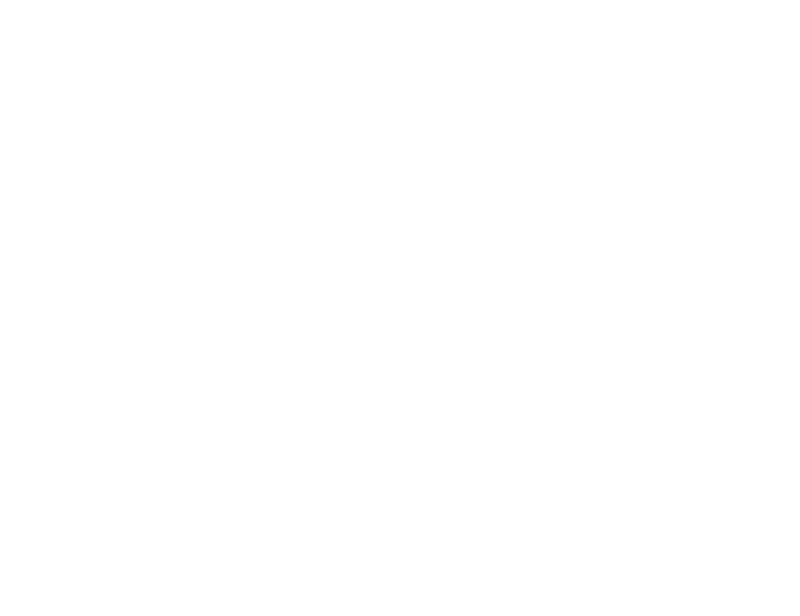
С этим выражением лица Паркер в исполнении Алека Болдуина встречает все события серии (сезон 8, серия 18: The One in Massapequa).
Официальный архитектурный язык напоминает мне героя сериала «Друзья» по имени Паркер. Он умел радоваться каждой мелочи и неустанно делился своими восторгами с окружающими, насыщая свою речь необычными эпитетами и цветистыми метафорами. Своим энтузиазмом он не столько развлекал, сколько раздражал всех вокруг, кроме Фиби, которой Паркер поначалу казался человеком с «невероятной жаждой жизни».
Но вскоре и для нее Паркера становится слишком много: «Ты как Санта-Клаус на прозаке… в Диснейленде… во время секса!» Когда она пытается порвать с ним, Паркер уходит искренне огорченным — кажется, в первый раз в жизни… Но лишь для того, чтобы через секунду вернуться:
Но вскоре и для нее Паркера становится слишком много: «Ты как Санта-Клаус на прозаке… в Диснейленде… во время секса!» Когда она пытается порвать с ним, Паркер уходит искренне огорченным — кажется, в первый раз в жизни… Но лишь для того, чтобы через секунду вернуться:
Ну скажи, разве это не была самая невероятная ссора в твоей жизни?!
Всех выводит из себя не столько манера Паркера выражаться, сколько его отказ признать иной опыт. Его энтузиазм легко поддержать, когда настроение совпадает; в остальных случаях его даже можно какое-то время терпеть. Но то, что Паркер принципиально не умеет быть рядом в моменты усталости, сомнения или разочарования, не может быть тихим, сочувствующим или просто растерянным, делает как раз его невероятно, необычайно, невозможно невыносимым.
Вопреки диагнозу, который Георг Зиммель когда-то поставил типичному горожанину — «повышенная нервность жизни, происходящая от быстрой и непрерывной смены внешних и внутренних впечатлений», — Паркер идеально чувствует себя в «калейдоскопе быстро меняющихся картин». Его не смущают ни «резкие границы в пределах одного моментального впечатления», ни «неожиданно сбегающиеся ощущения». Паркер сам стремится обнаружить эти ощущения там, где их не замечают другие.
Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос: Журнал по философии и прагматике культуры. 2002. № 3–4 (34). С. 1.
Мне кажется, что паркеровское joie de vivre — лишь маска, незатыкаемый фонтан его метафор — отвлекающий маневр, призванный скрыть душевное беспокойство, экзистенциальную тревогу. Подозреваю, что не только Паркер, но и современные архитекторы страдают от глубокого внутреннего конфликта, публичным выражением которого стали два полярных языка. Один — «паркеровский», аффектированный и восторженный, которому посвящены первые главы текста. Второй — «цинический», анализ которого предлагается во второй части.
Не берусь утверждать, что располагаю неоспоримыми подтверждениями правоты своего анализа. И если читателю покажется, что из «мух» плохих пресс-релизов я раздуваю «слонов» архитектурной теории — спорить не стану. Но если эти описания вызовут у кого-то чувство узнавания, само совпадение наших интуиций уже можно будет считать своего рода доказательством.
Не берусь утверждать, что располагаю неоспоримыми подтверждениями правоты своего анализа. И если читателю покажется, что из «мух» плохих пресс-релизов я раздуваю «слонов» архитектурной теории — спорить не стану. Но если эти описания вызовут у кого-то чувство узнавания, само совпадение наших интуиций уже можно будет считать своего рода доказательством.
Травма и расщепление личности
В основе моей гипотезы — идея расщепления, или диссоциации: разделение психической жизни на два режима, связанных общим травматическим событием, но старательно «избегающих встречи» друг с другом. Психолог Пьер Жане — современник Зигмунда Фрейда и, по мнению ряда исследователей, фигура для психиатрии не менее фундаментальная — приводит любопытные, хотя и заведомо неверные (в чем сам Жане отдает себе отчет) примеры того, что было принято называть «отрицательной галлюцинацией» в практике известных гипнотизеров XIX века:
…мы показывали сомнамбулам три апельсина, один из которых был намагнетизирован и окружен толстым слоем флюида, чтобы сомнамбулы не могли его видеть. Действительно, придя в себя, сомнамбулы не видели этот апельсин. Напрасно мы утверждали, что на блюде было три апельсина — они смеялись над нами и показывали нам лишь два, беря их в руки. Но когда они, водя рукой по блюду, наталкивались на какое-то тело, иллюзия исчезала, и все три апельсина становились видимыми…
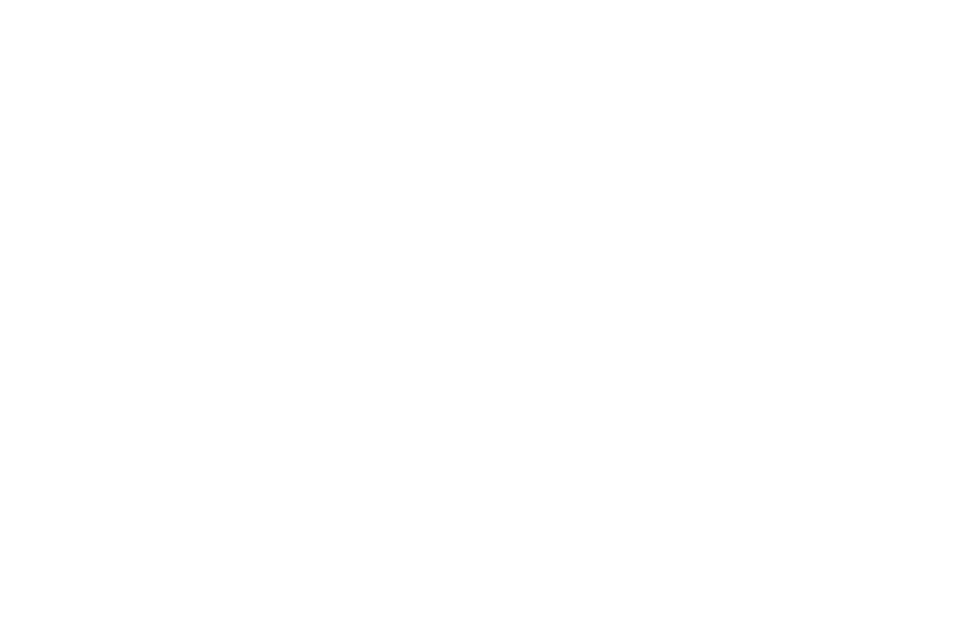
Пьер Жане (1859–1947), фотография Пола Франсуа Арнольда Кардона.
Жане, анализируя результаты этих экспериментов, резюмирует: «ощущение не уничтожается и не может быть уничтожено — оно просто отрывается от сознания нормального, и воспоминание о нем может всплыть у субъекта позднее как часть другой группы явлений, другого рода сознания» (Жане П., с. 283). Это положение становится фундаментом для его концепции «расщепленной психики», или «параллельного существования двух психик" — того, что сегодня описывается как широкий и крайне разнородный спектр диссоциативных расстройств, а массовая культура упрощает до эффектного «раздвоения личности».
Современные психологи Онно Ван дер Харт, Эллерт Нейенхэюс и Кэти Стил в своей работе «Призраки прошлого: структурная диссоциация и терапия последствий хронической психической травмы» обращаются к исследованиям Чарльза Самуэла Майерса.
Современные психологи Онно Ван дер Харт, Эллерт Нейенхэюс и Кэти Стил в своей работе «Призраки прошлого: структурная диссоциация и терапия последствий хронической психической травмы» обращаются к исследованиям Чарльза Самуэла Майерса.
Жане П. Психический автоматизм: Экспериментальное исследование низших форм психической деятельности человека. Санкт-Петербург: Наука, 2009. С. 273.
Ван дер Харт О., Нейенхэюс Э. Р. С., Стил К. Призраки прошлого: структурная диссоциация и терапия последствий хронической психической травмы. Москва: Когито-Центр, 2013. С. 21.
Ван дер Харт О., Нейенхэюс Э. Р. С., Стил К. Призраки прошлого: структурная диссоциация и терапия последствий хронической психической травмы. Москва: Когито-Центр, 2013. С. 21.
Работая с ветеранами Первой мировой войны, Майерс обнаружил, что в психике травмированного человека могут сосуществовать два автономных режима. В первом он отчаянно держится за «нормальность» и повседневность, стремясь имитировать обычную жизнь — учиться, заботиться, поддерживать социальные связи — и старательно избегая любых болезненных воспоминаний. Второй режим, сформированный в момент катастрофы, целиком замкнут на тех «системах действий (защиты, сексуальности и пр.) или подсистемах (сверхбдительности, бегства, борьбы), которые были активированы во время травматизации». Первый режим авторы определяют как «внешне нормальную часть» личности (ВНЧ), а второй — как «аффективную часть» личности» (АЧ).
При дефиците внутренних ресурсов психика переходит в режим суррогатных действий: они помогают справиться с острой болью, но блокируют осмысление и интеграцию травматического опыта. Со временем стратегии, на которых держится «внешне нормальная часть» личности, костенеют и становятся «второй натурой». Жизнь сужается до поддержания фасада повседневности: через гиперпродуктивность или социальную дистанцию человек виртуозно научается «не чувствовать». Однако чем радикальнее это бегство, тем агрессивнее вытесненный опыт напоминает о себе через навязчивые вторжения. Просыпающаяся «аффективная часть» требует компенсаций — от употребления веществ до самоповреждения, — что часто вызывает чувства вины и стыда, и что лишь еще больше углубляет разрыв.
Метафорические флюиды из опытов гипнотизеров окутывают травму, которая — подобно третьему апельсину — присутствует, оставаясь невидимой, пока сомнамбула «случайно» не заденет апельсин рукой, пока какое-то событие, внутреннее или внешнее, не напомнит о спрятанной травме. Именно эти «флюиды» фиксируют разрыв между «нормальной» и «аффективной» частями личности, изолируя нас от осознания травмы. В моей гипотезе роль флюидов выполняют два языка, которым посвящен этот текст: это инструменты изоляции, оберегающие «архитектурную сомнамбулу» от встречи с ее собственным травматическим опытом.
При дефиците внутренних ресурсов психика переходит в режим суррогатных действий: они помогают справиться с острой болью, но блокируют осмысление и интеграцию травматического опыта. Со временем стратегии, на которых держится «внешне нормальная часть» личности, костенеют и становятся «второй натурой». Жизнь сужается до поддержания фасада повседневности: через гиперпродуктивность или социальную дистанцию человек виртуозно научается «не чувствовать». Однако чем радикальнее это бегство, тем агрессивнее вытесненный опыт напоминает о себе через навязчивые вторжения. Просыпающаяся «аффективная часть» требует компенсаций — от употребления веществ до самоповреждения, — что часто вызывает чувства вины и стыда, и что лишь еще больше углубляет разрыв.
Метафорические флюиды из опытов гипнотизеров окутывают травму, которая — подобно третьему апельсину — присутствует, оставаясь невидимой, пока сомнамбула «случайно» не заденет апельсин рукой, пока какое-то событие, внутреннее или внешнее, не напомнит о спрятанной травме. Именно эти «флюиды» фиксируют разрыв между «нормальной» и «аффективной» частями личности, изолируя нас от осознания травмы. В моей гипотезе роль флюидов выполняют два языка, которым посвящен этот текст: это инструменты изоляции, оберегающие «архитектурную сомнамбулу» от встречи с ее собственным травматическим опытом.
Фасады эстетического капитализма
Едва ли я претендую на первенство в обнаружении того, насколько плотно сюжеты сокрытия, запутывания и намеренного отвлечения внимания связаны с проблемой архитектурного языка. Еще в конце XIX века Адольф Лоос в эссе «Потемкинский город» обрушивался на современную ему венскую застройку, обвиняя ее в создании тотальной декоративной завесы:
Обложка выпуска журнала Ver Sacrum за июль 1898 года, первая страница эссе Адольфа Лооса.
Любой, кто пытается выдать себя за кого-то лучшего, чем он есть на самом деле, — мошенник; он заслуживает всеобщего презрения, даже если нет пострадавших. Но если кто-то пытается добиться этого эффекта с помощью поддельных драгоценностей и других имитаций?.. Всякий раз, когда я прогуливаюсь по Рингу, мне кажется, будто современный Потемкин явился к нам, чтобы исполнить свою миссию, будто он хотел убедить всех, что, приехав в Вену, они попали в город, населенный одними лишь аристократами.
Адольф Лоос критиковал венскую архитектурную сцену не столько за пристрастие к орнаменту, сколько за интеллектуальную капитуляцию архитекторов перед рынком, за отсутствие у них творческих принципов. В его глазах это было симптомом фундаментальной склонности общества ко лжи — болезни, масштаб которой возрастает по экспоненте: от порока отдельных людей к патологии целой социальной страты и далее — к деформации политической культуры. Именно в этой точке Лоосу требуется вызвать тень Потемкина, за которой тянется вереница других теней из России, а за ними — шлейф дикарских нравов и преступной власти.
В «Уроках Лас-Вегаса» Роберт Вентури и Дениз Скотт Браун сопоставляют свой проект Guild House с Crawford Manor Пола Рудольфа. Принципиальное различие между этими объектами авторы видят в том, как «образ» здания соотносится с его «конструктивной системой». В обоих случаях архитекторы имеют дело с программами и методами производства, которые сами они характеризуют как «обыкновенные и распространенные». Но Guild House — «шестиэтажная имитация палаццо», а Crawford Manor — «взмывающая башня, не похожая ни на что, в своем собственном современном, а-ля Лучезарный город мире».
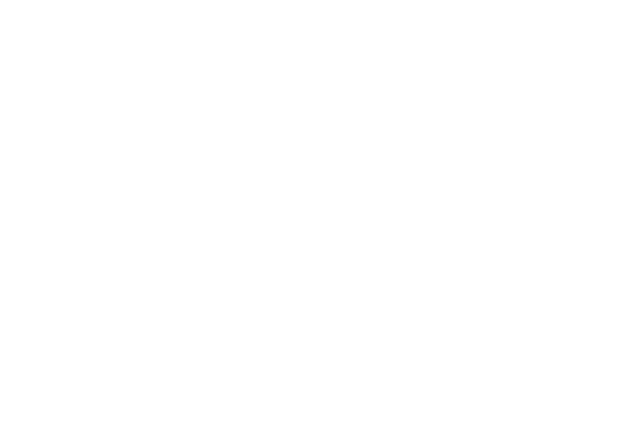
Venturi, Scott Brown and Associates, Inc., Guild House, Филадельфия, 1964.
Venturi R., Scott Brown D., Izenour S. Learning From Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form. London, Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1977. C.87−103.
Venturi R., Scott Brown D., Izenour S. Learning From Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form. London, Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1977. C.87−103.
Несмотря на стилистический разрыв между «банальным» и «героическим», Вентури и Скотт Браун признают, что оба объекта манипулируют ассоциациями зрителя. Это развивает начатую еще в Complexity and Contradiction in Architecture (1966) критику тезиса о "честности архитектуры". В «Уроках Лас-Вегаса» этот спор переходит в плоскость политической экономии. В своей сравнительной таблице авторы выносят вердикт: Crawford Manor «старается поднять систему ценностей клиента и/или бюджет с помощью отсылок к Искусству и Метафизике», а Guild House — «отталкивается от системы ценностей клиента».
В конечном счете, резюмируют авторы, подобный подход «безответственен»: «современная архитектура исказила целое здание так, что оно стало орнаментом». В чем же заключается эта безответственность? В том, что радикальная деформация была предпринята исключительно ради удовлетворения амбиций самого архитектора — и, разумеется, ради его гонораров.
В конечном счете, резюмируют авторы, подобный подход «безответственен»: «современная архитектура исказила целое здание так, что оно стало орнаментом». В чем же заключается эта безответственность? В том, что радикальная деформация была предпринята исключительно ради удовлетворения амбиций самого архитектора — и, разумеется, ради его гонораров.
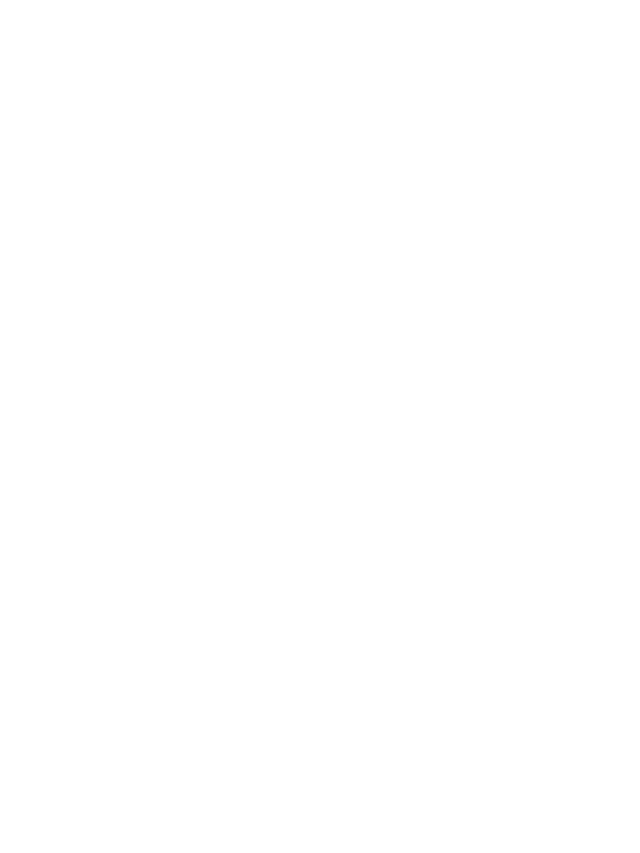
Пол Рудольф, Crawford Manor, Нью-Хейвен, 1966.
Философ Гернот Бёме подхватывает эту дискуссию, анализируя специфическую функцию кирпича в современной архитектуре. По Бёме, наше восприятие здания сегодня диктуется не материальной основой конструкции, а исключительно качеством поверхности. Популярность кирпичной облицовки питается ностальгией — теми самыми «ассоциациями» с «неприглядным и обыкновенным»: со старыми доходными домами и фабриками, в которых кладка была основной технологией строительства. В мире тотальной серийности эта «ремесленность» кирпича автоматически конвертируется в ощущение роскоши, транслируя образы уюта и вековой прочности.
Böhme G. Critique of aesthetic capitalism. Milan: Mimesis International, 2017. С. 95.
Архитектурная эстетика во многом свелась к эстетике поверхностей, фиксирует Бёме. Это было отчасти неизбежно из-за развития культуры и экономики, и совсем не так уж вредно, ведь продиктовано искренней заботой о визуальном комфорте горожан, травмированных аскезой «интернационального стиля». Однако и тут есть «хорошее и плохое»: «Плохая эстетика поверхности возникает, когда ценные архитектурные текстуры замазываются штукатуркой, или когда дизайн поверхности обманчиво скрывает истинный характер здания» — Бёме уподобляет это военному камуфляжу. Эталонный пример здесь — «восстановленный» замок в Брауншвейге, который на поверку оказывается лишь нарядным фасадом огромного торгового центра.
В итоге сегодня это здание, бесспорно, считается украшением Брауншвейга. Однако стоит миновать парадный вход, как вы обнаруживаете себя в торговом центре — настолько заурядном и прагматичном, насколько это вообще возможно. В довершение всего хитроумная пристройка с тыльной стороны, скрытая от глаз наблюдателя, превращает здание замка в многоуровневую автостоянку.
Витрувианская «польза» — прямое функциональное назначение здания — постепенно уступила место ценности экономической, а затем и «презентационной»: способности объекта производить впечатление. Выбор между кирпичом и любым другим материалом фасада всегда диктовался не только инженерной логикой, но и эмоциональным расчетом. Но теперь это часть механики «эстетического капитализма», где объектом купли-продажи становится не столько пространство, сколько генерируемая им атмосфера.
Брауншвейгский дворец строился в 1718—1791 гг.; был сожжен в 1830 году во время восстания, восстановлен в 1840-х.
Здание снова сильно пострадало во время Второй мировой войны, руины окончательно разобраны в 1960 году; на их месте разбит городской парк.
Здание снова сильно пострадало во время Второй мировой войны, руины окончательно разобраны в 1960 году; на их месте разбит городской парк.
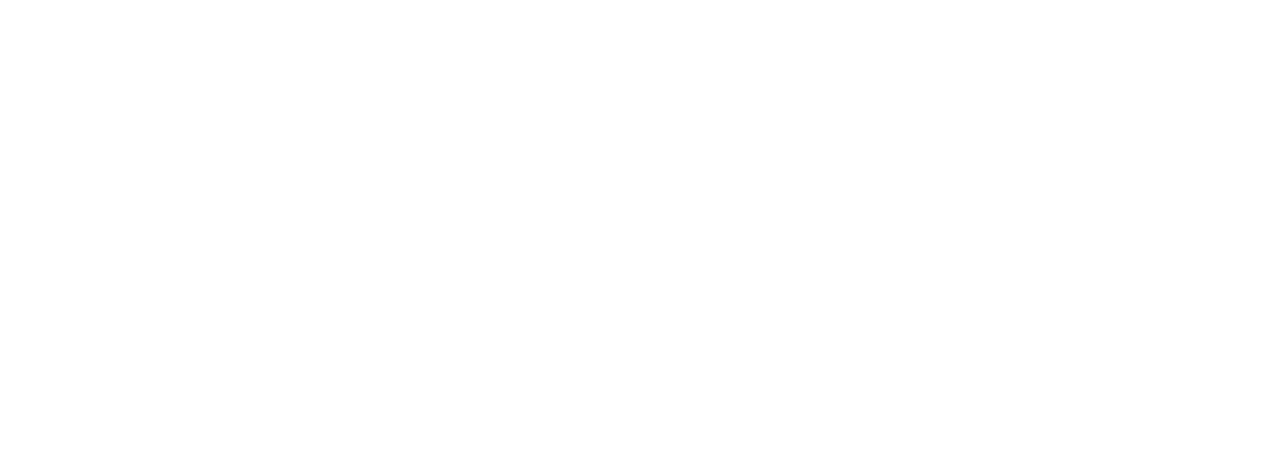
В 2004−7 гг. здание было восстановлено как часть торгового комплекса Schloss-Arkaden.
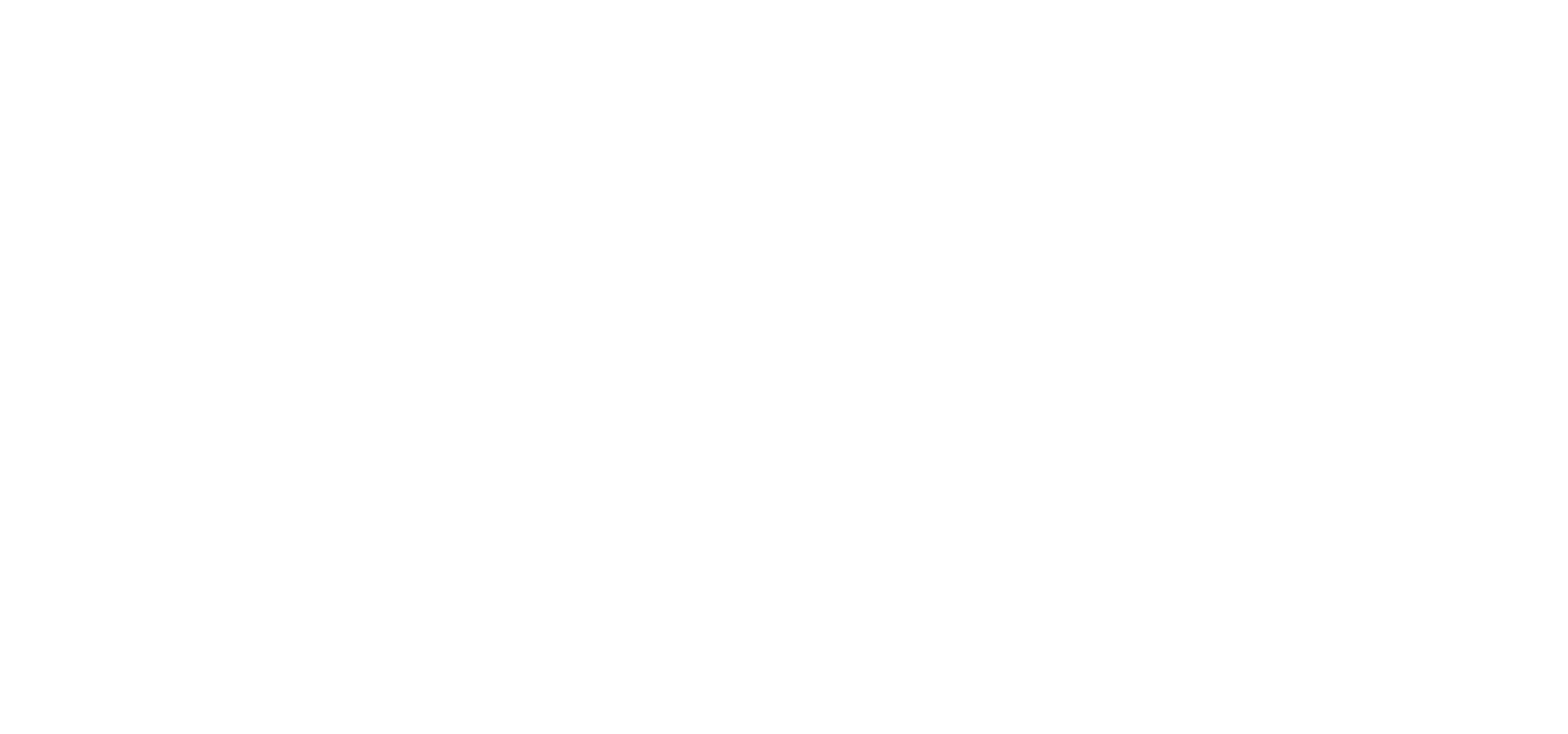
Фасад здесь не только продает недвижимость, но и сам по себе служит валютой на смежных рынках: так, в Брауншвейге «восстановление» замка стало ценой, уплаченной муниципалитету за право возвести торговый центр. В этой прагматичной сделке выгодоприобретателям — от политиков до ритейлеров — вовсе не обязательно испытывать к объекту эмоциональную привязанность. Им достаточно уверенности в существовании «другого» — массового потребителя, готового конвертировать этот визуальный суррогат в голоса на выборах, в трафик торгового центра или в посты в социальных сетях. Так эмоция становится отдельным от материальности и программы здания результатом архитектурного производства.
От общества спектакля к политике аффекта
Разумеется, цель «эстетического капитализма» заключается не в том, чтобы унимать тревоги травмированных архитекторов (что я назвал главной темой своих рассуждений), а в обслуживании травм, нанесенных самим жителям. Но кто сказал, что он не способен решать обе задачи разом? Отправитель и получатель эмоционального сообщения связаны одной механикой аффекта.
Ги Дебор в «Обществе спектакля» снабжает пространства новых городов исчерпывающим девизом:
Ги Дебор в «Обществе спектакля» снабжает пространства новых городов исчерпывающим девизом:
Вот здесь-то никогда ничего не произойдет и никогда ничего не происходило,
Дебор Ги. Общество спектакля. Москва: Издательство «Логос», 2000. С. 97.
— имея в виду, что цель этих модернистских монотонных пространств — «исторически сфабриковать» апатию жителей, заставить их верить, что у их современного положения нет прошлого. Следовательно, не может быть и никакого другого будущего.
Впрочем, можно вообразить и полную инверсию этого девиза:
Впрочем, можно вообразить и полную инверсию этого девиза:
Здесь все время что-то происходит и вот-вот что-то произойдет,
— и эта формула будет обладать ровно тем же эффектом. Только она лучше адаптирована к современной ситуации, в которой у нас не меньшую тревогу, чем бытовая неустроенность, вызывает отсутствие новых впечатлений. Ведь именно впечатления, насыщенность жизни событиями и «опытом» — признак положения среднего класса и выше. Если новых впечатлений нет — значит, с нами или с этим местом что-то не так: мы выпали из потока, застряли в прошлом, оказались на обочине цивилизации. Архитектура же становится тем инструментом, который подтверждает наше право на место в хронотопе современности.
Историк архитектуры Анджей Пиотровски идет еще дальше. Он утверждает: способность архитектуры формировать образ мышления, работая с режимами восприятия, — не открытие XX века, а ее имманентное свойство. Пиотровски предлагает рассматривать архитектурное производство как создание «превентивных спектаклей» — визуальных сред, способных подавлять представления о реальности и предлагать уход от проблем настоящего. Чем ярче и автономнее архитектурная форма, тем эффективнее она маскирует политические и экономические обстоятельства своего возникновения.
Piotrowski A. Architecture and Preemptive Spectacles // The Routledge Companion to Contemporary Architectural History. London: Routledge, 2024. C. 270−285.
Это и делает архитектуру соблазнительной: наблюдатель всегда готов заменить болезненный контакт с реальностью на убедительную картинку.
На примерах от маньеризма до XIX века Пиотровски показывает, как архитектура раз за разом становилась инструментом сокрытия. Маньеристские «поломки» ордера маскировали напряжения эпохи Реформации, Хрустальный дворец — превращал хаос товаров в иллюзию тотального контроля, где граница между знанием и рекламой окончательно стиралась. На рубеже XX—XXI веков роль такого «превентивного спектакля» переходит к эстетике алгоритмических манипуляций. Вычислительный дизайн сулит изобретательность без риска и возможность не делать выбор, механически реагируя на бесконечное множество факторов. Эта цифровая эстетика развлекает и дает удовлетворение, искусно скрывая сложность реального мира за обтекаемыми фасадами.
Параметрицизм Патрика Шумахера, провозглашенный им в 2009 году «новым глобальным стилем», Пиотровски трактует как кульминацию двух связанных стратегий. Первая — это настойчивое требование Шумахера (но и не только его, конечно) вывести профессию за рамки политики (что отчетливо звучало в его частой критике Венецианской биеннале, и в недавнем программном тексте The End of Architecture для журнала Khōrein). Вторая — предложение взамен этой ответственности тех самых форм-спектаклей, которые «превентивно» гасят любой интерес к социальным или этическим последствиям подобной позиции.
Подводя итог, Пиотровски утверждает: именно такая архитектура если не подготовила, то предвосхитила подъем правого популизма в 2010-х. Технологии массовой дезинформации — от бот-ферм и фейк-ньюс до манипуляций с большими данными — стали эффективны лишь потому, что опирались на уже сформированную привычку некритически воспринимать «фасад» любых технологий, а не только архитектурных и девелоперских.
На примерах от маньеризма до XIX века Пиотровски показывает, как архитектура раз за разом становилась инструментом сокрытия. Маньеристские «поломки» ордера маскировали напряжения эпохи Реформации, Хрустальный дворец — превращал хаос товаров в иллюзию тотального контроля, где граница между знанием и рекламой окончательно стиралась. На рубеже XX—XXI веков роль такого «превентивного спектакля» переходит к эстетике алгоритмических манипуляций. Вычислительный дизайн сулит изобретательность без риска и возможность не делать выбор, механически реагируя на бесконечное множество факторов. Эта цифровая эстетика развлекает и дает удовлетворение, искусно скрывая сложность реального мира за обтекаемыми фасадами.
Параметрицизм Патрика Шумахера, провозглашенный им в 2009 году «новым глобальным стилем», Пиотровски трактует как кульминацию двух связанных стратегий. Первая — это настойчивое требование Шумахера (но и не только его, конечно) вывести профессию за рамки политики (что отчетливо звучало в его частой критике Венецианской биеннале, и в недавнем программном тексте The End of Architecture для журнала Khōrein). Вторая — предложение взамен этой ответственности тех самых форм-спектаклей, которые «превентивно» гасят любой интерес к социальным или этическим последствиям подобной позиции.
Подводя итог, Пиотровски утверждает: именно такая архитектура если не подготовила, то предвосхитила подъем правого популизма в 2010-х. Технологии массовой дезинформации — от бот-ферм и фейк-ньюс до манипуляций с большими данными — стали эффективны лишь потому, что опирались на уже сформированную привычку некритически воспринимать «фасад» любых технологий, а не только архитектурных и девелоперских.
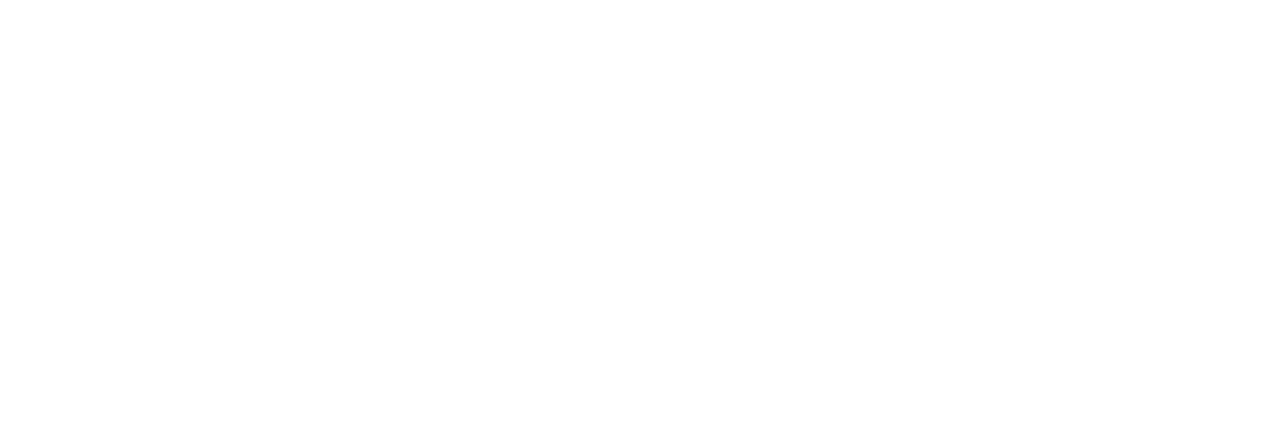
Zaha Hadid Architects, Dongdaemun Design Plaza, Сеул, 2014.
Завершим обзор критики архитектуры как инструмента сокрытия истины темой аффекта. Джозеф Бэдфорд в журнале Khōrein представил детальный анализ этого сюжета за последние три десятилетия. По его мнению, аффект вышел на авансцену в 1990-х годах, подготовленный дискуссиями вокруг деконструктивизма и рецепцией французского постструктурализма. Вместо поиска скрытых смыслов и символов архитекторам предложили сосредоточиться на чисто телесных реакциях: восприятии цвета, света, тактильности поверхностей и общей атмосферы. Среди главных «проповедников» аффекта — критики Сильвия Лавин и Джефф Кипнис, а также теоретик медиа Брайан Массуми, переводчик Делеза и Гваттари на английский, а также автор книг Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation и Politics of Affect.
Bedford J. After Affect // Khōrein: Journal for Architecture and Philosophy, vol. 3, no. 2, Dec. 2025, C. 57−92.
Поначалу аффект казался способом оживить дисциплину, уставшую от бесконечного разбора «значений». Аффективная архитектура мыслилась как авангардная практика: она должна была оспаривать власть не через лозунги, а через новые режимы чувствительности, блокирующие действие пропаганды. Однако из радикального жеста эта идея быстро превратилась в стандарт проектирования, где архитектура понимается исключительно как производство «настроений» — соблазна, возбуждения и пульсирующих атмосфер, а интенсивность переживания становится единственным оправданием дизайна.
К 2010-м годам, по мнению Бэдфорда, этот проект сам стал мишенью для критики. Политическая ставка на «непосредственность чувств» обернулась ловушкой медиасреды позднего капитализма. Дискурс аффекта оказался тесно связан с неолиберальной логикой платформ и культом «аутентичности», который процветает в ущерб вниманию к институтам. Город как пространство политического диалога и артикуляции позиций был вытеснен городом как набором «эмоций» и «нового опыта» — декорацией для переживаний, за которой исчезает сама возможность критического высказывания. И парадоксальным образом, этим, кажется, довольны все: власть и публика, бизнес и архитекторы.
К 2010-м годам, по мнению Бэдфорда, этот проект сам стал мишенью для критики. Политическая ставка на «непосредственность чувств» обернулась ловушкой медиасреды позднего капитализма. Дискурс аффекта оказался тесно связан с неолиберальной логикой платформ и культом «аутентичности», который процветает в ущерб вниманию к институтам. Город как пространство политического диалога и артикуляции позиций был вытеснен городом как набором «эмоций» и «нового опыта» — декорацией для переживаний, за которой исчезает сама возможность критического высказывания. И парадоксальным образом, этим, кажется, довольны все: власть и публика, бизнес и архитекторы.
Город потоков и просвещенное ложное сознание
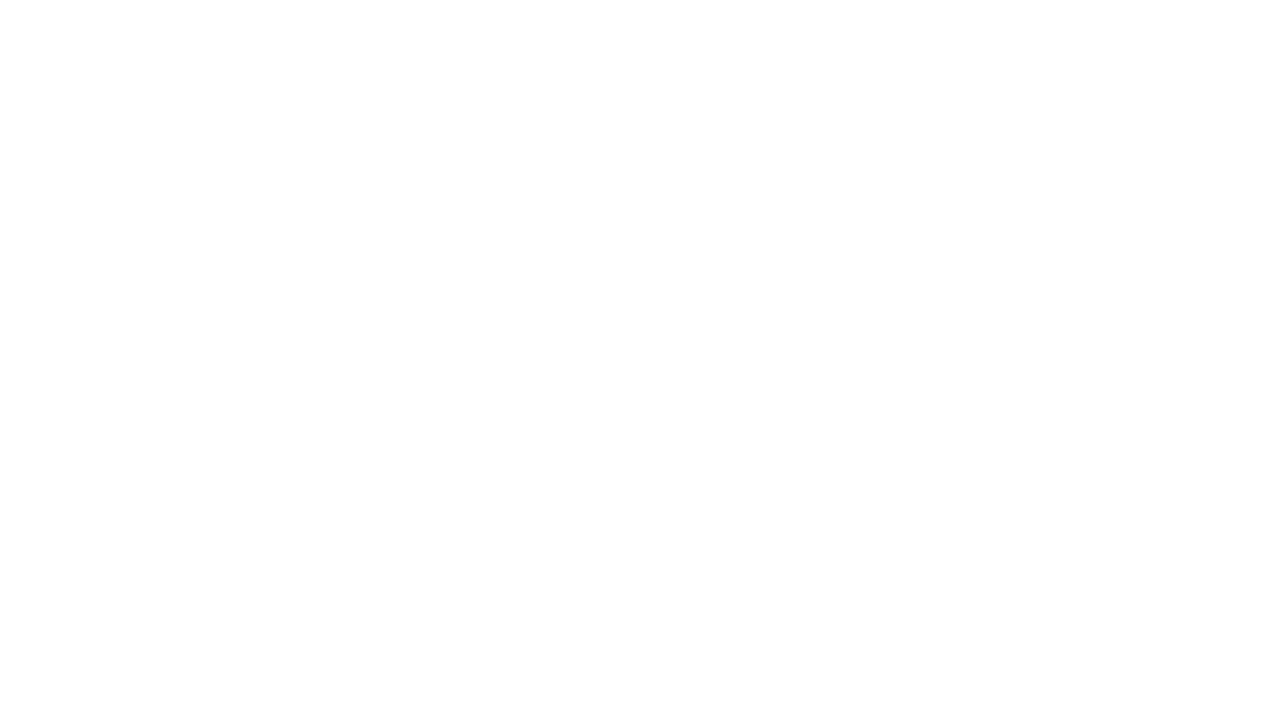
Ренцо Пьяно, Ричард Роджерс, Джанфранко Франчини, Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, или Бобур, Париж, 1977.
…единственным содержанием Бобура являются сами массы, которые здание перерабатывает как конвертер, как камера-обскура… как нефтеперерабатывающий завод перерабатывает нефтепродукты или необработанный поток сырья… Бобур в масштабе культуры впервые является тем, чем гипермаркет является в масштабе товара: совершенным циркуляционным оператором, демонстрацией чего угодно (товара, культуры, толпы, сжатого воздуха) посредством собственной ускоренной циркуляции.
Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. Москва: Издательский дом «ПОСТУМ», 2015. С. 93.
Люди читают газету, полагают, что узнают о вещах, которые их «интересуют», начиная с двадцатых годов слушают и радио, спешат по людным улицам, которые полны рекламы и витрин с заманчивыми предложениями. Они живут в городах, которые являют собой не что иное, как архитектурно выстроенные mass media, пронизанные сетями коммуникаций и знаков, которые направляют человеческие потоки. Город выступает в роли гигантского проточного нагревателя, который прогоняет через свою систему труб и знаков субъективную плазму. В свою очередь, и человеческие Я функционируют как проточные нагреватели, фильтры и каналы для потоков новостей, которые достигают наших органов восприятия через самые различные сферы вещания. Таким образом, Я и мир оказываются в двояком «проточном» состоянии, в процессе того онтологического «всасывания» и «перекачивания», которое отражается в тысяче и одной современной теории «кризиса».
Слотердайк П. Критика цинического разума. Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2021. С. 401.
В этих двух текстах, вышедших, по философским меркам, почти одновременно (эссе Бодрийяра о Центре Помпиду — в 1977-м, «Критика цинического разума» Слотердайка — в 1983 году), авторы описывают не только определенное состояние современной западной цивилизации, охваченной производством и перепроизводством символов. Они еще и косвенно или прямо предполагают существование такого типа сознания, которое отлично понимает эту логику и готово использовать ее в своих интересах — к его носителям относятся и заказчики таких объектов, «нефтеперерабатывающих заводов», и их архитекторы.
«Знать лучшее и делать худшее в пику ему» — так Слотердайк определяет «просвещенное ложное сознание», возводя его к кантовской идее Просвещения. В ответе на вопрос «Что такое Просвещение?» Кант утверждает, что «Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине», по «лености и трусости» продолжая подчиняться «опекунам», которые говорят, что хорошо, а что плохо. Но что сказать о человеке, который уже лишился своих опекунов в ходе развития общества, культуры и демократии; которому известно все, что опекуны предпочли бы от него скрыть; но который, несмотря на это, не только остается в состоянии несовершеннолетия (то есть действует так, будто не ведает разницы между добром и злом, и не отвечает за последствия своих решений), но даже получает от этого состояния и выгоду, и удовольствие?
В отличие от киника Диогена, новый цинизм не выглядит вызывающе, не привлекает к себе внимания. Он выбирает вежливую оболочку: «приспособленчество, вполне сознающее себя таковым и вынужденное „по необходимости“ пожертвовать знанием о лучшем» (Слотердайк П., с.24). Такому цинизму достаточно работать тихо, под «приличным» прикрытием. Например, под прикрытием профессионализма, внутри специального языка, который не отрицает «лучшее» напрямую, но как бы его изолирует, устраняя из зоны видимости.
Это и есть второй язык, на котором говорят о современной архитектуре. Он отличается от первого демонстративным отсутствием восхищения, напротив — даже презрением к любой аффектированности в отношении архитектуры. Это язык, который можно найти в телеграм-каналах о недвижимости, в высказываниях архитекторов, менеджеров в девелопменте, чиновников и всех тех, кто связан с процессом производства — когда они говорят за закрытыми дверями, доверительно или анонимно, как бы «начистоту».
Если в первом языке архитектура представляется как источник эмоциональных потрясений, то второй меньше интересуется архитектурой как таковой. Его главный сюжет — город, вернее — категории его обновления, роста, эффективности и трансформации. Город здесь понимается как масштабный процесс постоянной пересборки самого себя через снос и строительство. Отдельные дома, целые районы (промзоны, «складские поля», гаражи) исчезают, уступая место «комплексному развитию»; «неэффективные» территории «вычищаются» под жилье или офисы. Это конвейер непрерывного передела, переплавки того, что объявляется «пустотой» — в капитал.
Для работы этого конвейера нужны определенные условия, например, инфраструктура школ, детсадов и социальных объектов, а также транспортные сети. Все это — не благо само по себе и не ответ на потребности тех, кто будет инфраструктурой пользоваться, а лишь препятствие, обременение или триггер для нового проекта. Нечто нельзя построить из-за отсутствия инфраструктуры; а ее появление открывает новые горизонты экспансии.
Вообще же главные герои этого языка — корпорации и администрация. Город похож на шахматную доску, на которой частные и государственные игроки либо борются за право занять клетку, а также за ресурсы, позволяющие конвертировать эту клетку в капитал, либо же сами обладают правом позволить кому-то сделать ход. Именно управленческие и финансовые маневры, стратегии и сделки формируют пространство в первую очередь. Тогда как горожане (включая и обитателей свежепостроенных квартир, и работников новых офисов, и покупателей в торговых центрах) выступают для этой доски скорее одним из видов ресурса — не слишком важным или эффективным, но необходимым.
Архитектура в этом языке тоже не является главной темой, но она поважнее горожан: те — лишь пассивные участники процесса, стаффаж. Архитектура же — инструмент. Им можно уметь пользоваться или не уметь: массинги, фасады, планировки, качество рендеров свидетельствуют о том, правильно ли заказчик понимает момент и чувствует ли он расклад сил на доске, или же промахивается, делая то, что устарело и что будет трудно реализовать (в обоих смыслах слова: и построить, и продать). Неудачные ходы встречаются скорее с иронией и злорадством: сама архитектура — понимаемая лишь как внешняя оболочка уже принятых решений — не обладает достаточным весом, чтобы ее удачи или провалы воспринимались всерьез. Все это существует как бы только на бумаге: в расчетах, кадастровых картах и альбомах презентаций, не соприкасаясь с реальностью городской жизни.
«Знать лучшее и делать худшее в пику ему» — так Слотердайк определяет «просвещенное ложное сознание», возводя его к кантовской идее Просвещения. В ответе на вопрос «Что такое Просвещение?» Кант утверждает, что «Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине», по «лености и трусости» продолжая подчиняться «опекунам», которые говорят, что хорошо, а что плохо. Но что сказать о человеке, который уже лишился своих опекунов в ходе развития общества, культуры и демократии; которому известно все, что опекуны предпочли бы от него скрыть; но который, несмотря на это, не только остается в состоянии несовершеннолетия (то есть действует так, будто не ведает разницы между добром и злом, и не отвечает за последствия своих решений), но даже получает от этого состояния и выгоду, и удовольствие?
В отличие от киника Диогена, новый цинизм не выглядит вызывающе, не привлекает к себе внимания. Он выбирает вежливую оболочку: «приспособленчество, вполне сознающее себя таковым и вынужденное „по необходимости“ пожертвовать знанием о лучшем» (Слотердайк П., с.24). Такому цинизму достаточно работать тихо, под «приличным» прикрытием. Например, под прикрытием профессионализма, внутри специального языка, который не отрицает «лучшее» напрямую, но как бы его изолирует, устраняя из зоны видимости.
Это и есть второй язык, на котором говорят о современной архитектуре. Он отличается от первого демонстративным отсутствием восхищения, напротив — даже презрением к любой аффектированности в отношении архитектуры. Это язык, который можно найти в телеграм-каналах о недвижимости, в высказываниях архитекторов, менеджеров в девелопменте, чиновников и всех тех, кто связан с процессом производства — когда они говорят за закрытыми дверями, доверительно или анонимно, как бы «начистоту».
Если в первом языке архитектура представляется как источник эмоциональных потрясений, то второй меньше интересуется архитектурой как таковой. Его главный сюжет — город, вернее — категории его обновления, роста, эффективности и трансформации. Город здесь понимается как масштабный процесс постоянной пересборки самого себя через снос и строительство. Отдельные дома, целые районы (промзоны, «складские поля», гаражи) исчезают, уступая место «комплексному развитию»; «неэффективные» территории «вычищаются» под жилье или офисы. Это конвейер непрерывного передела, переплавки того, что объявляется «пустотой» — в капитал.
Для работы этого конвейера нужны определенные условия, например, инфраструктура школ, детсадов и социальных объектов, а также транспортные сети. Все это — не благо само по себе и не ответ на потребности тех, кто будет инфраструктурой пользоваться, а лишь препятствие, обременение или триггер для нового проекта. Нечто нельзя построить из-за отсутствия инфраструктуры; а ее появление открывает новые горизонты экспансии.
Вообще же главные герои этого языка — корпорации и администрация. Город похож на шахматную доску, на которой частные и государственные игроки либо борются за право занять клетку, а также за ресурсы, позволяющие конвертировать эту клетку в капитал, либо же сами обладают правом позволить кому-то сделать ход. Именно управленческие и финансовые маневры, стратегии и сделки формируют пространство в первую очередь. Тогда как горожане (включая и обитателей свежепостроенных квартир, и работников новых офисов, и покупателей в торговых центрах) выступают для этой доски скорее одним из видов ресурса — не слишком важным или эффективным, но необходимым.
Архитектура в этом языке тоже не является главной темой, но она поважнее горожан: те — лишь пассивные участники процесса, стаффаж. Архитектура же — инструмент. Им можно уметь пользоваться или не уметь: массинги, фасады, планировки, качество рендеров свидетельствуют о том, правильно ли заказчик понимает момент и чувствует ли он расклад сил на доске, или же промахивается, делая то, что устарело и что будет трудно реализовать (в обоих смыслах слова: и построить, и продать). Неудачные ходы встречаются скорее с иронией и злорадством: сама архитектура — понимаемая лишь как внешняя оболочка уже принятых решений — не обладает достаточным весом, чтобы ее удачи или провалы воспринимались всерьез. Все это существует как бы только на бумаге: в расчетах, кадастровых картах и альбомах презентаций, не соприкасаясь с реальностью городской жизни.
Landlords Game — предшественница «Монополии», изобретенная Лиззи Дж. Мэги (Филиппс) в 1903 году.
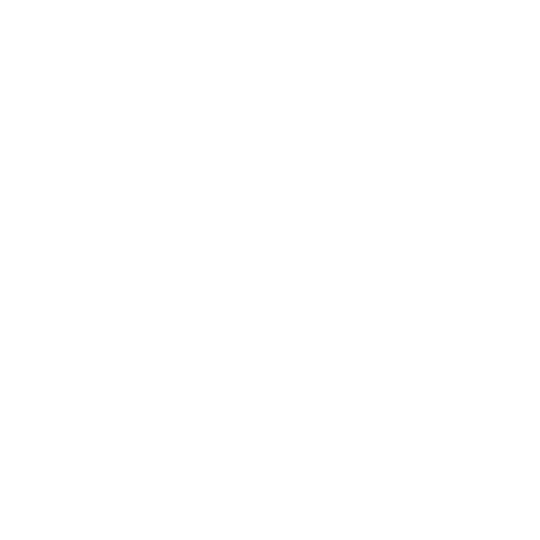
Если и есть в этом языке тема, претендующая на статус безусловно значимой, — то это цены. Квадратные метры, проекты, участки; колебания от года к году, от сезона к сезону, от района к району или в ответ на внешние встряски — таков главный сюжет и истинное мерило успеха в этой игре. Причем, цена выступает не абсолютным, а относительным показателем: указывающим на разницу между наличным состоянием и его более или менее привлекательной альтернативой, на дистанцию между теми, кто преуспевает, и теми, кто отстает. Игровой характер этого интереса очевиден, поскольку здесь никогда не обсуждается судьба денег, которые кто-то получил или потерял: это не более чем фишки в «Монополии».
Подобная оптика позволяет обходить вопрос о целесообразности, вынося за скобки не только то, стоят ли эти проекты уплаченных за них сумм, но и то, зачем ведется вообще вся игра. Процесс и есть его собственная цель, аксиоматика системы. Чтобы оправдать самого себя, процесс объявляется прогрессом, который понимается как постоянное «движение вперед», требующее устранения препятствий: обновления города, перевода неиспользуемого в востребованное, бесполезного — в то, чему можно присвоить цену. Одно следует из другого, как в замкнутом круге: прогресс — это движение вперед, для которого необходимо обновление города. Цель движения? Обновление, которого мы достигаем благодаря прогрессу. Миф о городе как о «машине обновления» позволяет участникам объяснять свои действия как вклад в его развитие, а непрерывный процесс строительства и капитализации считать безусловным благом.
Подобная оптика позволяет обходить вопрос о целесообразности, вынося за скобки не только то, стоят ли эти проекты уплаченных за них сумм, но и то, зачем ведется вообще вся игра. Процесс и есть его собственная цель, аксиоматика системы. Чтобы оправдать самого себя, процесс объявляется прогрессом, который понимается как постоянное «движение вперед», требующее устранения препятствий: обновления города, перевода неиспользуемого в востребованное, бесполезного — в то, чему можно присвоить цену. Одно следует из другого, как в замкнутом круге: прогресс — это движение вперед, для которого необходимо обновление города. Цель движения? Обновление, которого мы достигаем благодаря прогрессу. Миф о городе как о «машине обновления» позволяет участникам объяснять свои действия как вклад в его развитие, а непрерывный процесс строительства и капитализации считать безусловным благом.
Язык власти и власть языка
Первый язык держится на эмоциональности и аффекте, игнорируя все, что способно разрушить «магию» современной архитектуры, — это делает его неуязвимым и автономным, подобно гипнозу. Но и второй язык обладает похожим свойством, только его «магический флюид» — это власть.
Такие разнообразные деятели, как Ле Корбюзье, Вальтер Ратенау, те, кто проводил коллективизацию в Советском Союзе… занимались планированием для абстрактных субъектов, которые нуждались в таком-то количестве квадратных футов площади для жилья, акров земельных угодий, литров чистой воды и единиц транспорта, а также в определенном количестве продовольствия, чистого воздуха и мест отдыха. Стандартизированные граждане были однородны в своих потребностях и даже взаимозаменяемы… не имели никакого пола, никаких вкусов, никакой предыстории, никаких ценностей, мнений или собственных идей, никаких традиций и отличительных индивидуальных признаков, которые бы учитывались при планировании. У них не было никакой особенности, никаких ситуативных и контекстуальных признаков, которых можно было бы ожидать от любого населения, и которые мы, кстати, всегда приписываем элитам.
Политолог и антрополог Джеймс Скотт (1936−2024) в своей программной работе «Благими намерениями государства» атакует не мораль чиновников, а саму логику власти, игнорирующую живой опыт людей ради абстрактной пользы. Генезис этого «государственного взгляда» Скотт прослеживает от прусского лесоводства XVIII века до радикального модернизма середины XX столетия — периода, когда бюрократия окончательно научилась воспринимать ландшафты, города и человеческие привычки исключительно сквозь сетку унифицированных стандартов.
Переписи, унификация терминологий, систем мер и весов, создание кадастров, кодексов и каталогов делают управление прозрачным и масштабируемым, но производит «абстрактного гражданина» — однородного, взаимозаменяемого, без биографии и контекста, с универсальными потребностями. Среди архитекторов это уже считается общим местом: мегапроекты, нацеленные на «причинение добра», — будь то строительство новых городов или массовое типовое жилье — зачастую не достигают проектных целей. Те же результаты, что все же удается получить, последующими поколениями воспринимаются как минимум неоднозначно. И тем не менее: несмотря на перемены во вкусах, лексике и способах формулировать задачи, за этим языком по-прежнему проглядывает логика унификации. Меняются переменные, но не принцип.
Переписи, унификация терминологий, систем мер и весов, создание кадастров, кодексов и каталогов делают управление прозрачным и масштабируемым, но производит «абстрактного гражданина» — однородного, взаимозаменяемого, без биографии и контекста, с универсальными потребностями. Среди архитекторов это уже считается общим местом: мегапроекты, нацеленные на «причинение добра», — будь то строительство новых городов или массовое типовое жилье — зачастую не достигают проектных целей. Те же результаты, что все же удается получить, последующими поколениями воспринимаются как минимум неоднозначно. И тем не менее: несмотря на перемены во вкусах, лексике и способах формулировать задачи, за этим языком по-прежнему проглядывает логика унификации. Меняются переменные, но не принцип.
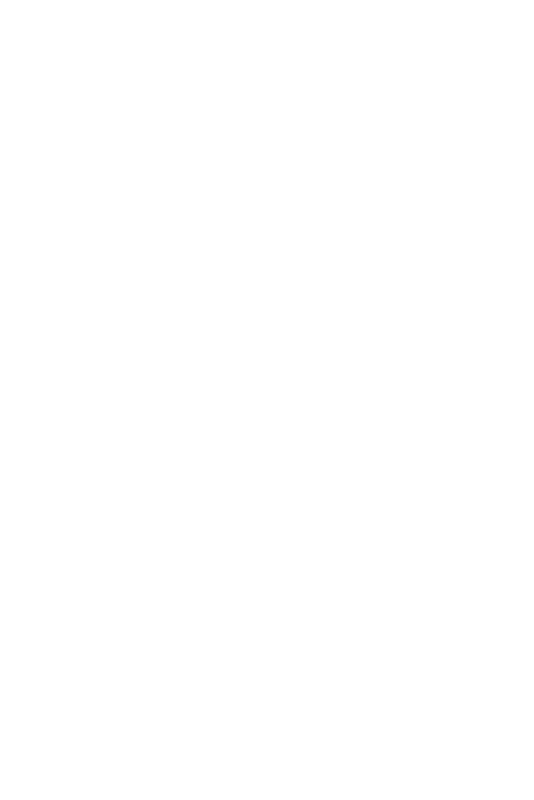
Ле Корбюзье, исторические кварталы Парижа и «План Вуазен», фотомонтаж, 1925.
Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. Москва: Университетская книга, 2005. С. 550.
Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. Москва: Университетская книга, 2005. С. 550.
Причину этой устойчивости помогут прояснить теории социолога Никласа Лумана, для которого власть — не воля субъекта, а форма «техники», универсальный механизм расчета и автоматизации. В ткани социального общежития эта техника эффективна именно в силу своей неартикулированности: готовые процедуры избавляют от нужды каждый раз заново осмыслять ситуацию или искать альтернативы — до тех пор, пока все идет «по плану». Но когда ожидания расходятся с реальностью, власть должна поспешить скрыть этот зазор, маскируя «риск очевидности того, что власть нереализует свои собственные возможности».
Луман Н. Власть. Москва: Праксис, 2001. С. 112.
Для нейтрализации подобных рисков власти вовсе не обязательно быть эффективной на деле: «существуют установки, скажем, фатализм или апатия, которые специально служат предварению разочарований», отмечает Луман. В любом случае она должна заботиться о том — говоря словами Монтеня, — чтобы всегда делать вид, будто желаемое достигнуто. Даже если для этого приходится притворяться, что именно достигнутое и было желаемым.
Скотт демонстрирует, что управленческая машина — этот гибрид администрации, капитала и архитектуры — добивается контроля не столько силой, сколько языком: переводом живых практик в стандартизированные категории, доступные расчету и масштабированию. В этом смысле она действует в логике Лумана: посредством упрощения и абстракции власть переводит политические обещания в измеримые индикаторы. Задачи формулируются таким образом, чтобы их выполнение было гарантировано самой структурой языка, а любые провалы выглядели лишь статистическими исключениями, подтверждающими общее правило. Система управляет не столько реальностью, сколько репрезентацией — отчетной картиной прогресса, подкрепленной ритуалами проверок и моделей.
Скотт демонстрирует, что управленческая машина — этот гибрид администрации, капитала и архитектуры — добивается контроля не столько силой, сколько языком: переводом живых практик в стандартизированные категории, доступные расчету и масштабированию. В этом смысле она действует в логике Лумана: посредством упрощения и абстракции власть переводит политические обещания в измеримые индикаторы. Задачи формулируются таким образом, чтобы их выполнение было гарантировано самой структурой языка, а любые провалы выглядели лишь статистическими исключениями, подтверждающими общее правило. Система управляет не столько реальностью, сколько репрезентацией — отчетной картиной прогресса, подкрепленной ритуалами проверок и моделей.
Архитектор в пасти Левиафана
За описанными процессами стоит вполне узнаваемая динамика неолиберализма. Однако для полноты контекста важно наметить векторы, вдоль которых эта изученная вдоль и поперек система продолжает свою трансформацию.
Логика «предпринимательского» подхода, описанная Дэвидом Харви в классической статье From Managerialism to Entrepreneurialism, на первый взгляд все еще остается незыблемой — «вне зависимости от национальных границ и даже вне зависимости от политических партий и идеологий». Начиная с кризиса 1970-х городские администрации повсеместно переключались с администрирования услуг на стимулирование экономического роста, рассчитывая, что рынок сам обеспечит горожан всем необходимым. Приоритеты смещались от программ всеобщего благосостояния — жилья, образования и инфраструктуры — к производству точечных «мест»: парков, деловых кластеров и арт-кварталов, от которых ожидали «мультипликативных эффектов». Эти проекты быстро сложились в универсальный каталог «лучших практик», реализуемых по единым рецептам в любой точке мира. В такой модели город превращается в товар, а архитектура — в его упаковку, работающую одновременно на внешний маркетинг и как форма пропаганды для внутренней аудитории. Город перестает быть средой и становится витриной.
Хотя декларативной целью неолиберализма провозглашалось избавление власти от «бремени заботы» и перекладывание нагрузки на рынок, в реальности, как отмечает Лоик Вакан, произошло нечто иное. Управление экономическим потенциалом потребовало создания новых административных машин и жесткой перенастройки правил игры. В итоге государства стало не меньше, а больше. Но теперь это иное государство: сосредоточенное на дисциплинарном, селективном и подчеркнуто асимметричном воздействии.
Хотя декларативной целью неолиберализма провозглашалось избавление власти от «бремени заботы» и перекладывание нагрузки на рынок, в реальности, как отмечает Лоик Вакан, произошло нечто иное. Управление экономическим потенциалом потребовало создания новых административных машин и жесткой перенастройки правил игры. В итоге государства стало не меньше, а больше. Но теперь это иное государство: сосредоточенное на дисциплинарном, селективном и подчеркнуто асимметричном воздействии.
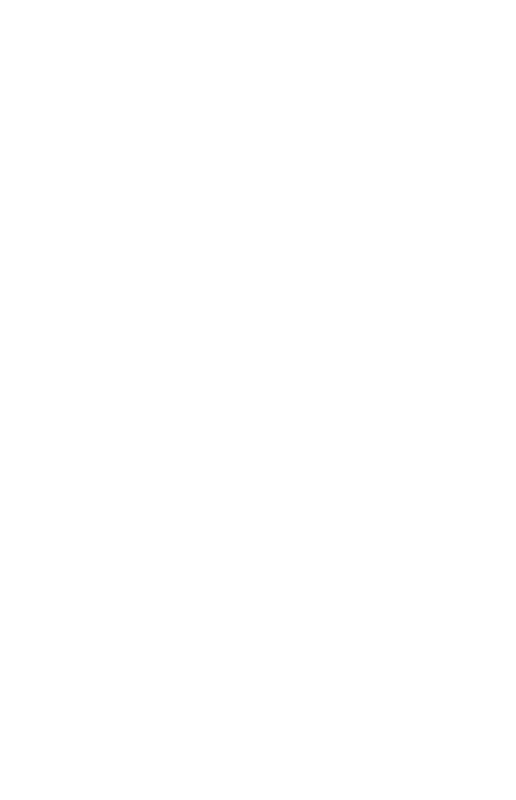
Титульный лист трактата Томаса Гоббса "Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского" (1651)
Harvey D. From managerialism to entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism // Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. 1989. Vol. 71. № 1. С. 3−17.
Harvey D. From managerialism to entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism // Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. 1989. Vol. 71. № 1. С. 3−17.
…неолиберальный Левиафан не похож ни на компактное государство либерализма XIX века, ни на «исчезающее государство», по которому тоскуют и те, кто критикует неолиберализм как экономический проект, и те, кто критикует его как форму правительственности. Скорее, это государство-кентавр, показывающее два разных лица на полюсах классовой структуры: наверху оно поддерживает и «освобождает», используя ресурсы и расширяя жизненные возможности обладателей экономического и культурного капитала; внизу — карает и ограничивает, когда речь идет об управлении населением, положение которого стало менее уверенным из-за роста неравенства, распространения трудовой нестабильности и тревожности вокруг этнических конфликтов.
Wacquant L. Three steps to a historical anthropology of actually existing neoliberalism // Social Anthropology. 2012. Vol. 20. № 1. С.66−79.
В пространстве «реально существующего неолиберализма» рынок, государство и профессиональное сообщество не противостоят друг другу, а образуют устойчивый альянс, где государственные инструменты — регламенты, процедуры и режимы согласований — перенастраиваются под диктат рыночной логики. А то, что мешает процессу — устраняется с помощью логики государственного вмешательства. Социальные конфликты и проблемы неравенства здесь последовательно переводятся на язык технических компромиссов и эстетических улучшений: открытый спор о ценностях подменяется обсуждением «сценариев», «программ», «стандартов» и визуальных образов.
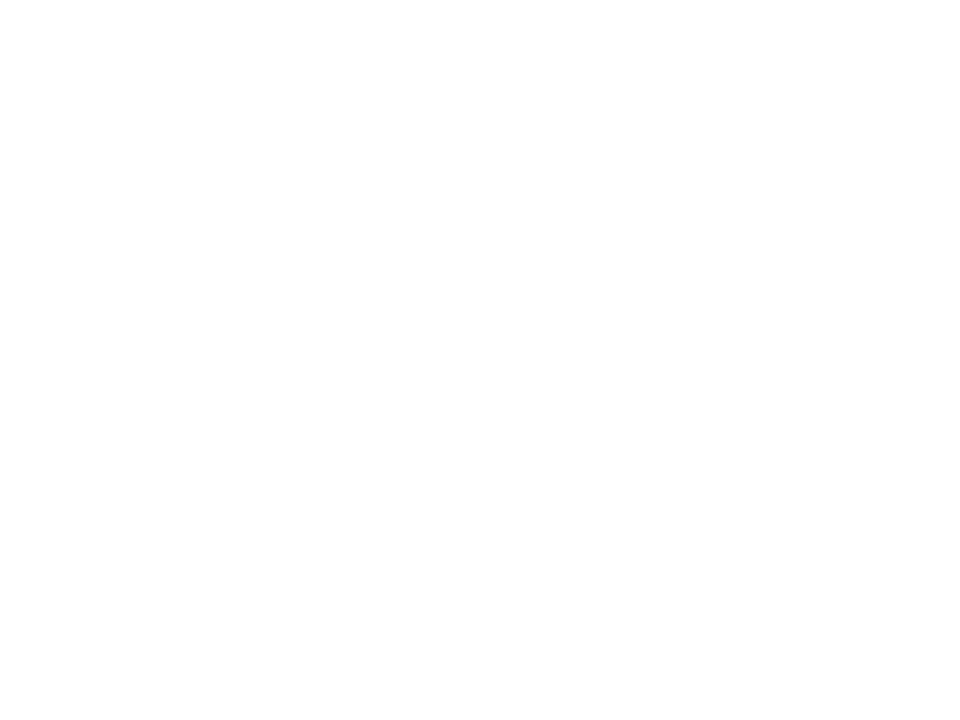
Девелопмент в районе Кадыкёй в Стамбуле, интенсивность застройки которого связана, в том числе, с ожиданием постоянного роста цен на недвижимость.
Специфическая вариация — авторитарный неолиберализм — расцветает там, где гиперцентрализация власти лишает города автономии, бюджеты и право распоряжения землей замкнуты на национальный уровень. Здесь легитимность власти и экономический рост намертво сцеплены со «стройкой» и мегапроектами, политический цикл требует непрерывного производства визуальных триумфов. В этой системе гражданское общество, медиа, профессиональные союзы лишены права вето, «чрезвычайщина» — управление через череду кризисов, «национальных проектов» — становится нормой. Доступ к контрактам и ресурсам превращается в инструмент удержания лояльности элит, националистическая повестка оправдывает любое вмешательство в городскую среду, а сама урбанизация окончательно становится технологией контроля над территорией.
Теме авторитарного неолиберализма был посвящен целый выпуск журнала Urban Studies: Authoritarian Neoliberal and Illiberal Urbanisms, с исследованиями на материале Турции, Индии, Казахстана, Китая, Бразилии, но так же и Канады, США, Великобритании.
Модель авторитарного неолиберализма в городском управлении предстает «чудищем о трех головах». Первая — рыночная — отвечает за рост через ренту и агрессивную конкуренцию территорий. Вторая — менеджерская — обеспечивает централизацию и запуск механизмов «чрезвычайности». Третья — силовая — гарантирует контроль над медиа и судами, переводя любые социальные конфликты в режим полицейского урегулирования. В этой системе урбанизация служит своего рода ускорителем: в герметичном пространстве города, под ручным управлением и при предельном сжатии сроков, государство оперативно конвертирует ресурсы в осязаемые результаты, в триумфы, которые можно предъявить любой аудитории — от локальной до глобальной.
В зазоре между административным управлением и пространственной формой кристаллизуется роль архитектора как медиатора. Он встроен в механизмы легитимации и оценки рисков, но именно на него возложена задача придать этим процессам «человеческое лицо», превратив сухие пункты девелоперского задания в тактичную и социально нейтральную среду. Архитектор не задает политический вектор — он делает его приемлемым. В этой конфигурации его позиция оказывается ключевой и уязвимой одновременно. Действуя внутри связки рынка и государства не как инициатор, а как необходимый оператор, он переводит управленческую волю в зримую и обитаемую форму. Именно через архитектора режим ускорения, исключений и деполитизации обретает «нормальный» облик, заимствуя из арсенала дисциплины язык качества среды, заботы, устойчивости, идентичности, эмоций.
В зазоре между административным управлением и пространственной формой кристаллизуется роль архитектора как медиатора. Он встроен в механизмы легитимации и оценки рисков, но именно на него возложена задача придать этим процессам «человеческое лицо», превратив сухие пункты девелоперского задания в тактичную и социально нейтральную среду. Архитектор не задает политический вектор — он делает его приемлемым. В этой конфигурации его позиция оказывается ключевой и уязвимой одновременно. Действуя внутри связки рынка и государства не как инициатор, а как необходимый оператор, он переводит управленческую волю в зримую и обитаемую форму. Именно через архитектора режим ускорения, исключений и деполитизации обретает «нормальный» облик, заимствуя из арсенала дисциплины язык качества среды, заботы, устойчивости, идентичности, эмоций.
Добровольные пленники абстракции
Итак, перед нами два языка, описывающих одну и ту же архитектурную практику и один и тот же город, но так, словно речь идет о разных реальностях — или, если угодно, разных проекциях. Первый — восторженное наречие архитектурного маркетинга: «яркое», «уникальное», «современное». Это интонация безусловного восхищения, игнорирующая опыт усталости, сомнения или земной тяжести. Второй — циническая речь производства и управления. Это голос «настоящих профессионалов», противопоставленный чаяниям «наивной» публики: язык тех, кто допущен к принятию решений или хотя бы к пересказу того, что обсуждается за закрытыми дверями.
Там, где в первом языке царят прилагательные и аффект, во втором — цена и власть. И то, и другое служит мерилом «важности», накладывая на объекты и события координатную сетку, развернутую параллельно реальности города. Все совпадения здесь, как водится, «случайны»: в этих герметичных мирах названия, адреса и сами архитектурные формы наделяются смыслами, которые принципиально не совпадают с их смыслом в физическом пространстве.
Там, где в первом языке царят прилагательные и аффект, во втором — цена и власть. И то, и другое служит мерилом «важности», накладывая на объекты и события координатную сетку, развернутую параллельно реальности города. Все совпадения здесь, как водится, «случайны»: в этих герметичных мирах названия, адреса и сами архитектурные формы наделяются смыслами, которые принципиально не совпадают с их смыслом в физическом пространстве.
Пьер Витторио Аурели в статье для сборника The Architect as Worker (позднее он разовьет тему в отдельной книге: Architecture and Abstraction) обращается к понятию абстракции, обнаруживая в ней не столько изысканный эстетический жест, сколько исторический инструмент организации труда. Абстракция выступает как необходимая часть профессиональной архитектуры:
Aureli P. V. Form and labor: Toward a history of abstraction in architecture // The Architect as Worker. Immaterial Labor, the Creative Class, and the Politics of Design. London: Bloomsbury Publishing, 2015. С. 105.
Уже Витрувий проводил различие между fabrica и ratiocinatio. В то время как fabrica относится к практике строительства, ratiocinatio обозначает рассуждение — то есть замысел здания до его осуществления. Именно благодаря рассуждению, в котором ключевую роль играют геометрия, расчет, экономика и управление ресурсами, абстракция обретает плоть в архитектурной форме. Форма перестает быть результатом усилий индивидуального ремесленника и превращается в итог социализированного знания, состоящего из абстрактных конвенций — таких как использование ортогональных проекций в архитектурных чертежах, — и систем измерения.
Как следует из рассуждения Аурели, именно архитектурная абстракция становится отчуждаемой в экономическом смысле: отделяя rationcinatio от fabrica, архитектура превращает проектное знание в самостоятельную, обособленную ценность. При этом, отчуждается не столько продукт труда (чертежи как объекты обмена), сколько сам процесс: форма присутствия архитектора в проекте, в которой профессионал выступает «переводчиком» между разными участниками, конвертирующим финансовые показатели — в планы, политические цели — в рендеры. Между этой инструментальной реальностью и гуманистическим мифом о профессии, сложившимся в XIX и в XX веках, — пропасть расщепленного опыта. Это и есть та травма, которая заставляет говорить об архитектуре на двух наречиях, ни одно из которых не является языком реальности.
В чем суть этой травмы? В структурном разрыве между действием и переживанием, между тем, что с городом делают, и тем, как в нем живут. Это опыт предельного ускорения, при котором город пребывает в состоянии перманентного «перехода», не оставляющего времени на осмысление перемен. Это утрата агентности: город перестает быть пространством, где воля жителей (включая и самих архитекторов) на что-то влияет. Это зазор между декларациями модернизации и ее фактическими плодами: «улучшение» визуального ряда не конвертируется в соразмерное качество жизненного опыта. Два упомянутых языка становятся стратегиями выживания в ситуации, где признание утраты, конфликта или неопределенности оказывается слишком рискованным — как для институций, так и для субъекта, который выбрал находиться внутри этой системы.
В чем суть этой травмы? В структурном разрыве между действием и переживанием, между тем, что с городом делают, и тем, как в нем живут. Это опыт предельного ускорения, при котором город пребывает в состоянии перманентного «перехода», не оставляющего времени на осмысление перемен. Это утрата агентности: город перестает быть пространством, где воля жителей (включая и самих архитекторов) на что-то влияет. Это зазор между декларациями модернизации и ее фактическими плодами: «улучшение» визуального ряда не конвертируется в соразмерное качество жизненного опыта. Два упомянутых языка становятся стратегиями выживания в ситуации, где признание утраты, конфликта или неопределенности оказывается слишком рискованным — как для институций, так и для субъекта, который выбрал находиться внутри этой системы.
Стыд отчасти и возникает как реакция на бессилие: нам невыносима неспособность контролировать собственную жизнь, несоответствие ни личным идеалам, ни внешним ожиданиям — социальным и цеховым. Второй источник стыда — осознание вынужденного соучастия: мы знаем больше, чем можем произнести вслух, и этот «заговор молчания» неизбежно отделяет нас от непосвященных. «Стыд заставляет человека чувствовать, что он непригоден для человеческого общества, приговорен к изоляции до скончания времен и непереносим для себя», — отмечал антрополог и психоаналитик Бенджамин Килборн. Столкновение такой формы стыда с профессией, чей фундамент составляют публичность и символический капитал, оказывается предельно болезненным.
Килборн Б. Травма, стыд и страдание. Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2019. С. 26.
Отсюда проясняется подлинная функция обоих языков. Восторженное наречие маркетинга экранирует стыд, подменяя его аффектом гордости и суррогатом эстетического возбуждения. Управленческий же язык этот стыд рационализирует, упаковывая его в «стерильные» процедуры и отчетные показатели. Стыд здесь — симптом, указывающий на разрыв между материальной практикой и ее символическим оправданием. Чтобы система оставалась жизнеспособной, он требует либо сложной механики расщепления, в пустоте которого скрывается травма, либо — в какой-то, вероятно, весьма отдаленной перспективе — рождения «третьего языка». Языка, способного удержать это противоречие, не камуфлируя его восторгом и не обезболивая управляемостью.
канал в телеграм: